КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ: НА СТРАНИЦАХ КНИГ И ГАЗЕТ
В годы войны в Свердловск прибывают эвакуированные литераторы, важные бойцы культурного фронта. Их оружие и вклад в Победу – слова и смыслы. Они активно работают, сотрудничают с газетами и журналами, ведут пронзительную летопись военных лет, дневники тылового Урала.
В числе прибывших – маститые авторы: поэтессы Мариэтта Шагинян и Агния Барто, писатели Федор Гладков, Лев Кассиль, Федор Панферов, Вера Панова, поэты Алексей Сурков, Аркадий Коц, Николай Асеев и многие, многие другие. Они существенно укрепили писательские организации региона. Только Свердловское отделение увеличилось с 15 до 64 человек. Вырос объем издаваемой литературы, публикуемых статей и очерков.
За годы войны из-под пера литераторов вышло большое количество значимых произведений. И это был их вклад в Победу. Евгений Пермяк писал в газете «Правда» от 22 ноября 1942 года: «Свердловские издательства за последний год выпустили до трехсот книг о людях, заводах, рудниках — о делах Урала». В свет выходили сборники. Например, «Говорит Урал» 1942 года.
В гости приезжали и неэвакуированные писатели и журналисты, такие как Александр Фадеев, Алексей Толстой, Всеволод Рождественский. Чтобы поддержать коллег, пообщаться, рассказать фронту о том, как Урал самоотверженно кует Победу, делая все для завершения войны.
В числе прибывших – маститые авторы: поэтессы Мариэтта Шагинян и Агния Барто, писатели Федор Гладков, Лев Кассиль, Федор Панферов, Вера Панова, поэты Алексей Сурков, Аркадий Коц, Николай Асеев и многие, многие другие. Они существенно укрепили писательские организации региона. Только Свердловское отделение увеличилось с 15 до 64 человек. Вырос объем издаваемой литературы, публикуемых статей и очерков.
За годы войны из-под пера литераторов вышло большое количество значимых произведений. И это был их вклад в Победу. Евгений Пермяк писал в газете «Правда» от 22 ноября 1942 года: «Свердловские издательства за последний год выпустили до трехсот книг о людях, заводах, рудниках — о делах Урала». В свет выходили сборники. Например, «Говорит Урал» 1942 года.
В гости приезжали и неэвакуированные писатели и журналисты, такие как Александр Фадеев, Алексей Толстой, Всеволод Рождественский. Чтобы поддержать коллег, пообщаться, рассказать фронту о том, как Урал самоотверженно кует Победу, делая все для завершения войны.
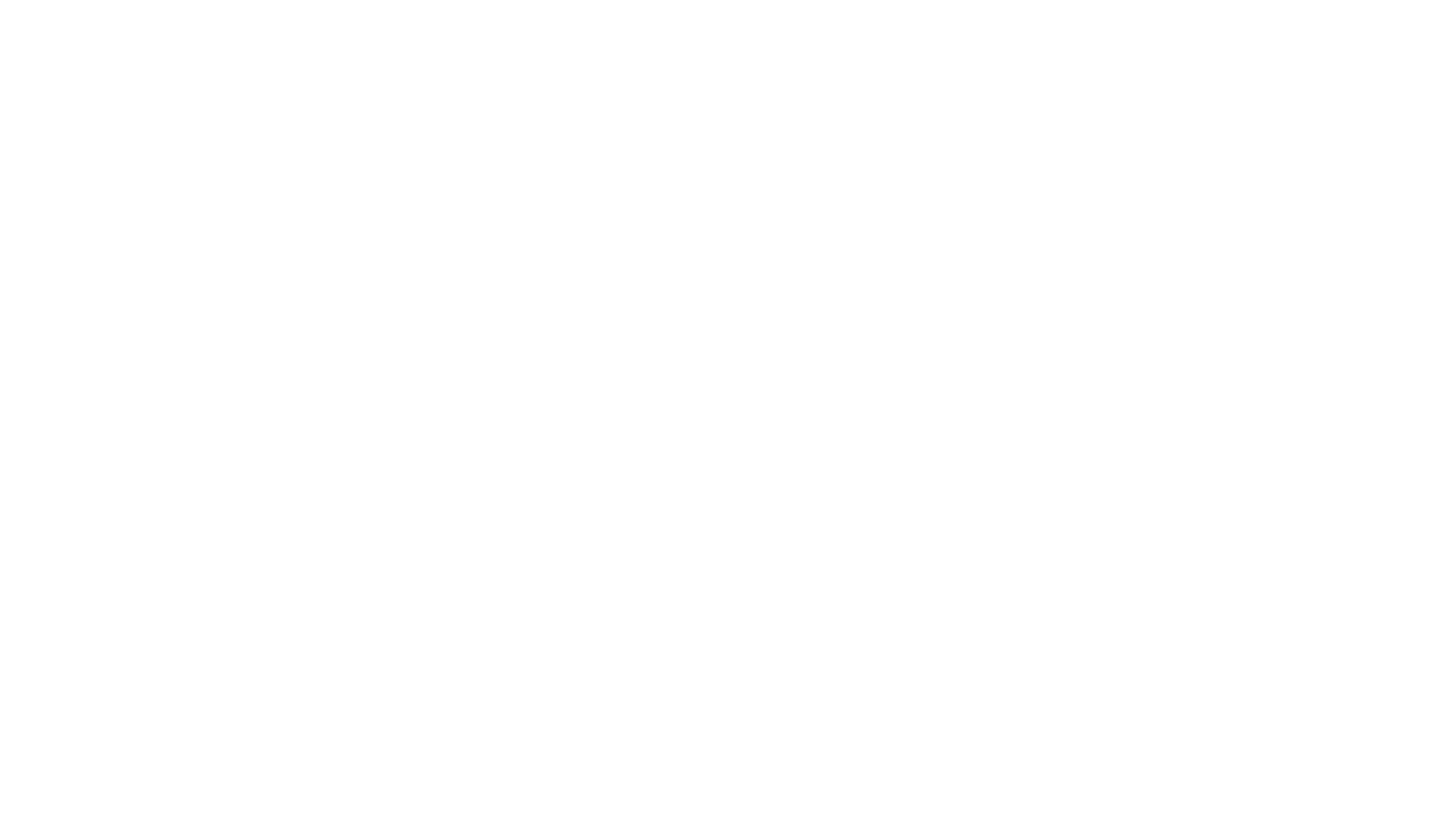
Павел Бажов (второй справа) с эвакуированными литераторами Д. И. Заславским, Л. С. Шаумяном, А. Л. Барто, М. С. Шагинян. Свердловск, 1943 год. Фото из Объединенного музея писателей Урала.
Большая волна «литературной» эвакуации пришлась на конец 1941-го. «Некоторые приезжали налегке, без вещей. Случалось, выходили из дому, собираясь переждать бомбежку и вернуться, а возвращаться было некуда… Ленинградский поэт Илья Садофьев поехал в деревню, куда была отправлена дочка (а жена — в командировке). Обратно в Ленинград он попасть уже не мог, и в летнем пальто, в легких ботиночках, с маленьким чемоданчиком осенью прибыл на Урал. А зима 41−42 года была на редкость холодной — морозы в 30 градусов и больше. Смотреть на бедного мерзнувшего Илью Ивановича было просто невозможно, и я, помню, смастерила ему кое-какое шерстяное кашне». Эта цитата из книги воспоминаний уральского поэта и переводчика Елены Хоринской «Я вспоминаю…» (2009 год), приводится в материале, опубликованном на сайте культура.екатеринбург.рф и посвященной жизни и работе писателей на Урале.
Урал впечатлял и завораживал. Огни тыловых городов согревали. «Они напоминали, что наша страна необъятна и могуча, вселяли в людей надежду, веру в то, что черной ночи фашизма придет конец…», — писал Андрей Золотов в статье «Старое, но грозное оружие».
Шефство над приезжающими взял Павел Бажов, в военные годы возглавший Свердловское отделение Союза советских писателей. Он, не жалея сил, помогал приезжим обустроиться в городе, получить теплую одежду, а местным писателям — не умереть с голоду, и неустанно хлопотал о дополнительной помощи подопечным.
Жили в бытовом плане сложно, как все в этот период. Свердловск был перенаселен. Люди жили везде, где можно было найти хоть немного подходящего места. Для эвакуированных из Москвы литераторов и их семей издательство «Уральский рабочий» выделило целый этаж. Пространство разграничивали мебелью, простынями, многие спали на сдвинутых стульях или на ночь стелили постель на столы, за которыми работали днем. Схожая обстановка была и в комнате на третьем этаже Дома печати, оборудованной под общежитие литераторов. Жильцы в шутку именовали его «колхоз Бедлам»… Люди сообща справлялись с трудностями. В сообществе писателей бурлила жизнь: здесь делились новостями и идеями, читали вслух свои и чужие произведения, обсуждали сводки с фронта и из заводских цехов Урала.
Исследователи военного периода в жизни советских литераторов рассказывают, что Павел Петрович очень внимательно относился ко всему, что писали в Свердловске, и помогал литераторам не только заботой, делом, но и товарищеским советом. Так, например, Агнии Барто, предложившей свою песню для конкурса песни «Урал — кузница оружия» он дал совет в части стихотворения («Уральцы бьются здорово, Им сил своих не жаль, Еще в штыках Суворова Горела наша сталь») заменить «им» на «нам». «Иначе со стороны получается. Сейчас уральцы для вас не „они“, а „мы“», — тактично подсказал Бажов.
Писали многие по ночам, а днем спешили на заводы, в больницы, в учебные заведения. В городе проводилось множество открытых чтений, встреч. Для жителей Свердловска — коренных и эвакуированных на Урал — проводились литературные и литературно-музыкальные вечера.
В открытых источниках фигурирует впечатляющая цифра: за 40 месяцев войны полуголодная творческая интеллигенция встретилась с более чем 9 миллионами человек, поддерживая в них надежду и веру, давая стимул жить и работать дальше.
Урал впечатлял и завораживал. Огни тыловых городов согревали. «Они напоминали, что наша страна необъятна и могуча, вселяли в людей надежду, веру в то, что черной ночи фашизма придет конец…», — писал Андрей Золотов в статье «Старое, но грозное оружие».
Шефство над приезжающими взял Павел Бажов, в военные годы возглавший Свердловское отделение Союза советских писателей. Он, не жалея сил, помогал приезжим обустроиться в городе, получить теплую одежду, а местным писателям — не умереть с голоду, и неустанно хлопотал о дополнительной помощи подопечным.
Жили в бытовом плане сложно, как все в этот период. Свердловск был перенаселен. Люди жили везде, где можно было найти хоть немного подходящего места. Для эвакуированных из Москвы литераторов и их семей издательство «Уральский рабочий» выделило целый этаж. Пространство разграничивали мебелью, простынями, многие спали на сдвинутых стульях или на ночь стелили постель на столы, за которыми работали днем. Схожая обстановка была и в комнате на третьем этаже Дома печати, оборудованной под общежитие литераторов. Жильцы в шутку именовали его «колхоз Бедлам»… Люди сообща справлялись с трудностями. В сообществе писателей бурлила жизнь: здесь делились новостями и идеями, читали вслух свои и чужие произведения, обсуждали сводки с фронта и из заводских цехов Урала.
Исследователи военного периода в жизни советских литераторов рассказывают, что Павел Петрович очень внимательно относился ко всему, что писали в Свердловске, и помогал литераторам не только заботой, делом, но и товарищеским советом. Так, например, Агнии Барто, предложившей свою песню для конкурса песни «Урал — кузница оружия» он дал совет в части стихотворения («Уральцы бьются здорово, Им сил своих не жаль, Еще в штыках Суворова Горела наша сталь») заменить «им» на «нам». «Иначе со стороны получается. Сейчас уральцы для вас не „они“, а „мы“», — тактично подсказал Бажов.
Писали многие по ночам, а днем спешили на заводы, в больницы, в учебные заведения. В городе проводилось множество открытых чтений, встреч. Для жителей Свердловска — коренных и эвакуированных на Урал — проводились литературные и литературно-музыкальные вечера.
В открытых источниках фигурирует впечатляющая цифра: за 40 месяцев войны полуголодная творческая интеллигенция встретилась с более чем 9 миллионами человек, поддерживая в них надежду и веру, давая стимул жить и работать дальше.
