КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ: НА СЦЕНЕ, В ОКОПАХ И ГОСПИТАЛЯХ
Война и театр — сложное сочетание. Все понимали: государство вынуждено перераспределять ресурсы и направлять все силы в сферы, непосредственно влияющие на исход войны. Театрам приходилось работать в тяжелейших условиях, но здесь действовал все тот же принцип: «Все для Победы». У режиссеров, сценаристов, артистов был свой фронт. Культурный. Их полем боя была сцена в театре, в заводских цехах, в окопах, в госпиталях.
В целом по Уралу за годы войны было поставлено 3,7 тыс. пьес, проведено 65,6 тыс. спектаклей, которые посетили 28,5 млн зрителей. На Урал были эвакуированы: МХАТ, Малый театр, Ленинградский театр оперы и балета, ленинградский ТЮЗ и многие другие творческие коллективы. Не прекращали работу и сами уральцы.
В целом по Уралу за годы войны было поставлено 3,7 тыс. пьес, проведено 65,6 тыс. спектаклей, которые посетили 28,5 млн зрителей. На Урал были эвакуированы: МХАТ, Малый театр, Ленинградский театр оперы и балета, ленинградский ТЮЗ и многие другие творческие коллективы. Не прекращали работу и сами уральцы.
В 1942 году на Урале было 57 театров, но из них 19 эвакуированных. К концу 1943-го продолжают работать 19 эвакуированных театров, а общее количество театров достигает новой отметки — 60. В 1944 — 1945 годах театральный ландшафт Урала — это 51 собственный театр (плюс 10 эвакуированных), что сильно превышает довоенные показатели.
В числе ярких гостей Урала были мхатовцы. В городских хрониках значится: «МХАТ находился на особом счету у Сталина, мхатовцам в Свердловске предоставляли все самое-самое. Поселили артистов в гостинице «Большой Урал».
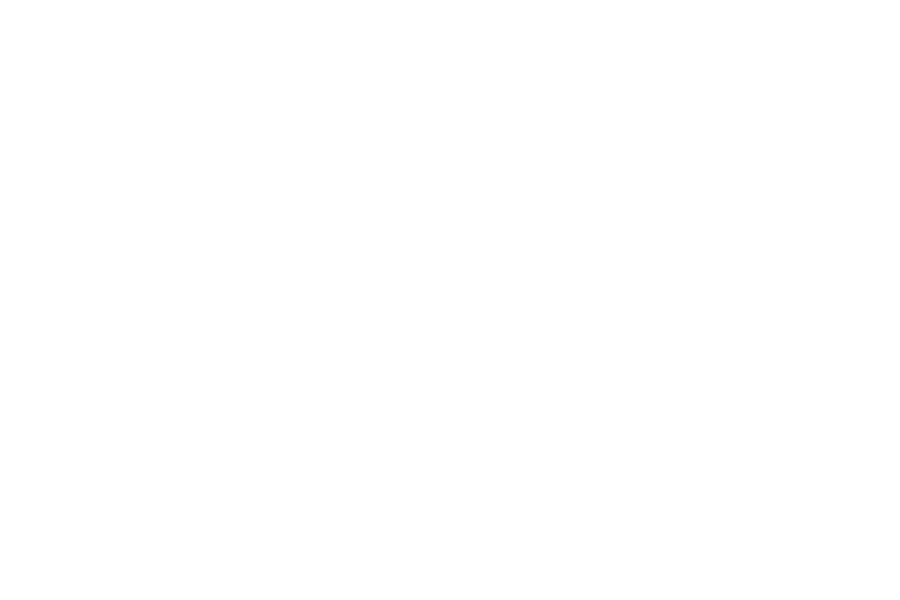
Артисты МХАТа у гостиницы «Большой Урал». Фото из собрания виртуального Музея эвакуации (проект Волонтерского общества Свердловской области)
Артисты вспоминали, что дорога вСвердловск была долгой и тяжелой, но времени на отдых не было. По прибытию труппа безотлагательно приступила к репетициям. В репертуаре — постановка «Русские люди» по пьесе Константина Симонова и "Фронт" Александра Корнейчука. Параллельно артисты давали спектакли на сцене оперного театра, билеты на которые, включая приставные места, раскупали за вечер.
Репертуарные спектакли дополнялись выездными выступления. На каждый «выход» брали лучшие костюмы и, конечно, сшитый вручную занавес с легендарной чайкой.
«С собственной трактовкой „Умирающего лебедя“ выступала для раненых юная Майя Плисецкая, воспитанница Московского хореографического училища. Ее также эвакуировали в Свердловск. Пачка балерины тогда весила несколько килограммов и была скроена из обычной марли», — сообщает сайт музей-эвакуации.рф. Здесь же приводится любопытная цитата из воспоминаний Майи Плисецкой: «В Свердловске мы разместились в квартире инженера Падучева. В тесную трёхкомнатную обитель, помимо нас, исполком поселил ещё одну семью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения. Прабабушка, бабушка, мать и семилетняя дочь. Сам инженер — человек добрый и безответный — с пятью домочадцами остался ютиться в дальней третьей комнате. Так и жили мы: 4x4x6, почти как схема футбольного построения. Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в падучевскую квартиру сумели втиснуться ещё двое. Родной дядя инженера с десятипудовой женой. Вы будете сомневаться, но жили мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места в километровых очередях, ссужали кирпичиком хлеба в долг или трешницей до получки».
МХАТ пробыл в Свердловске всего два с половиной месяца (из-за больших проблем с помещениями для репетиций в сентябре 1942 года труппа решила вернуться домой), но успел дать 79 спектаклей, взял шефство над «Уралмашем». Большую сумму из заработанных в Свердловске средств артисты передали на строительство боевого самолета «Советский артист».
В формирование эскадрильи «Советский артист» внесли вклад и другие творческие коллективы. Например, Свердловский театр оперы и балета имени Луначарского. Театр отказался от государственной дотации, дал государству 860 000 рублей прибыли. Артисты отправляли на фронт теплые вещи, посылки с продовольствием. На собственные средства приобрели и отправили на фронт три самоходные пушки.
Часть коллектива оперного театра ушла на фронт, оставшиеся в тылу работали без выходных. Большой успех имела патриотическая русская классика: «Иван Сусанин» Глинки, «Дубровский» Чайковского. Осенью 1941 года была поставлена опера Россини «Вильгельм Телль», рассказывающая о героической борьбе швейцарского народа со своими угнетателями. За годы войны театр дал более четырех тысяч концертов. Артисты работали на фронте в составе сборных фронтовых бригад, ставили спектакли в госпиталях и тыловых частях, дежурили по ночам у тяжелораненых бойцов, читали им газеты и книги.
Репертуарные спектакли дополнялись выездными выступления. На каждый «выход» брали лучшие костюмы и, конечно, сшитый вручную занавес с легендарной чайкой.
«С собственной трактовкой „Умирающего лебедя“ выступала для раненых юная Майя Плисецкая, воспитанница Московского хореографического училища. Ее также эвакуировали в Свердловск. Пачка балерины тогда весила несколько килограммов и была скроена из обычной марли», — сообщает сайт музей-эвакуации.рф. Здесь же приводится любопытная цитата из воспоминаний Майи Плисецкой: «В Свердловске мы разместились в квартире инженера Падучева. В тесную трёхкомнатную обитель, помимо нас, исполком поселил ещё одну семью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения. Прабабушка, бабушка, мать и семилетняя дочь. Сам инженер — человек добрый и безответный — с пятью домочадцами остался ютиться в дальней третьей комнате. Так и жили мы: 4x4x6, почти как схема футбольного построения. Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в падучевскую квартиру сумели втиснуться ещё двое. Родной дядя инженера с десятипудовой женой. Вы будете сомневаться, но жили мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места в километровых очередях, ссужали кирпичиком хлеба в долг или трешницей до получки».
МХАТ пробыл в Свердловске всего два с половиной месяца (из-за больших проблем с помещениями для репетиций в сентябре 1942 года труппа решила вернуться домой), но успел дать 79 спектаклей, взял шефство над «Уралмашем». Большую сумму из заработанных в Свердловске средств артисты передали на строительство боевого самолета «Советский артист».
В формирование эскадрильи «Советский артист» внесли вклад и другие творческие коллективы. Например, Свердловский театр оперы и балета имени Луначарского. Театр отказался от государственной дотации, дал государству 860 000 рублей прибыли. Артисты отправляли на фронт теплые вещи, посылки с продовольствием. На собственные средства приобрели и отправили на фронт три самоходные пушки.
Часть коллектива оперного театра ушла на фронт, оставшиеся в тылу работали без выходных. Большой успех имела патриотическая русская классика: «Иван Сусанин» Глинки, «Дубровский» Чайковского. Осенью 1941 года была поставлена опера Россини «Вильгельм Телль», рассказывающая о героической борьбе швейцарского народа со своими угнетателями. За годы войны театр дал более четырех тысяч концертов. Артисты работали на фронте в составе сборных фронтовых бригад, ставили спектакли в госпиталях и тыловых частях, дежурили по ночам у тяжелораненых бойцов, читали им газеты и книги.
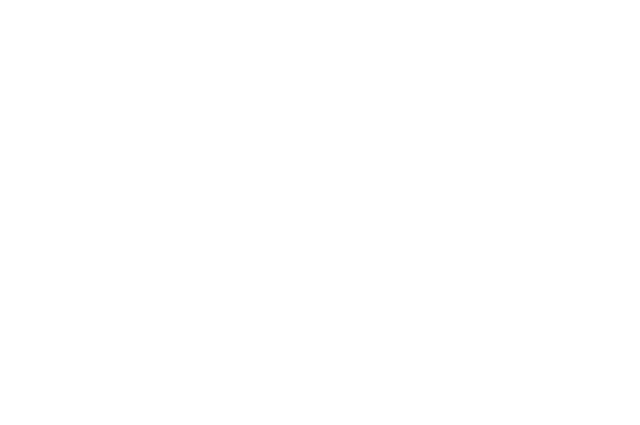
Артисты Музкомедии передают на фронт три танка Т-34. Фото с сайта «АИФ-Урал»
Свердловский театр музкомедии тоже жил и работал в режиме культурного фронта. Артисты играли ежемесячно по 20 и более спектаклей, вдвое превышая довоенные нормативы. В моменты между репетициями спешили не домой, а в госпитали, к раненым. Помогали медперсоналу, мыли палаты, чинили белье, общались с ранеными.
Газета «АИФ-Урал» опубликовала воспоминания солистки театра Марии Викс, которую однажды попросили пройти в палату к получившему тяжелейшие ожоги летчику: «Врачи предупредили, что он обречён. То, что я увидела, переступив порог, и сейчас сжимает сердце болью. На кровати лежал с ног до головы забинтованный человек. Видны были только воспалённые глаза, нос, рот… У меня стиснуло виски, а баянисту не подчинялись пальцы. Вдруг больной попросил песню про лётчика. Я спела Бакалова „В родном краю“ о дальневосточном лётчике. И вдруг раздался странный звук: не то стон, не то всхлипывание, и я увидела, что раненый плачет…». Актриса разрыдалась, едва вышла из палаты. Через несколько часов узнала: летчик умер.
Артисты, работавшие с полной самоотдачей, и сами иногда еле держались на ногах, падали в обмороки от усталости и голода. «Когда актеры свердловских театров, в том числе и Музкомедии, начали массово страдать от дистрофии, обком партии обратился к директорам крупных уральских заводов с просьбой помочь дополнительным питанием. И те, конечно, помогли. Свердловский театр музыкальной комедии был прикреплён к Первоуральскому новотрубному заводу, и это спасло многих от голодной смерти», — рассказывают журналисты.
На архивном снимке запечатлен еще один важный момент из истории Свердловской музкомедии: 1943 год, площадь у центральной проходной Уралмашзавода, момент передачи на фронт трех танков Т-34, собранных на средства театра.
Газета «АИФ-Урал» опубликовала воспоминания солистки театра Марии Викс, которую однажды попросили пройти в палату к получившему тяжелейшие ожоги летчику: «Врачи предупредили, что он обречён. То, что я увидела, переступив порог, и сейчас сжимает сердце болью. На кровати лежал с ног до головы забинтованный человек. Видны были только воспалённые глаза, нос, рот… У меня стиснуло виски, а баянисту не подчинялись пальцы. Вдруг больной попросил песню про лётчика. Я спела Бакалова „В родном краю“ о дальневосточном лётчике. И вдруг раздался странный звук: не то стон, не то всхлипывание, и я увидела, что раненый плачет…». Актриса разрыдалась, едва вышла из палаты. Через несколько часов узнала: летчик умер.
Артисты, работавшие с полной самоотдачей, и сами иногда еле держались на ногах, падали в обмороки от усталости и голода. «Когда актеры свердловских театров, в том числе и Музкомедии, начали массово страдать от дистрофии, обком партии обратился к директорам крупных уральских заводов с просьбой помочь дополнительным питанием. И те, конечно, помогли. Свердловский театр музыкальной комедии был прикреплён к Первоуральскому новотрубному заводу, и это спасло многих от голодной смерти», — рассказывают журналисты.
На архивном снимке запечатлен еще один важный момент из истории Свердловской музкомедии: 1943 год, площадь у центральной проходной Уралмашзавода, момент передачи на фронт трех танков Т-34, собранных на средства театра.
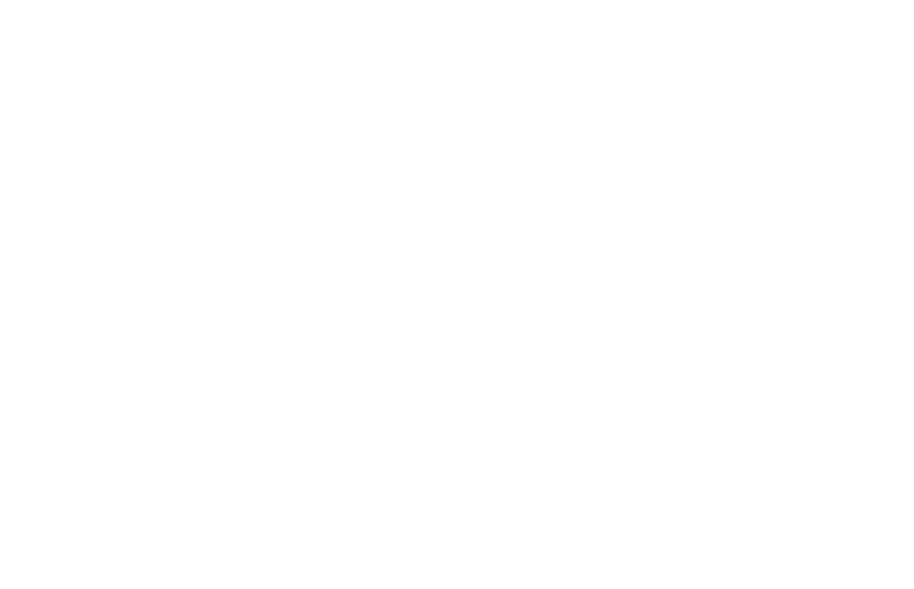
Здание Свердловского драмтеатра. Фото с сайта театра.
Начало войны застало артистов Свердловского драмтеатра на гастролях в Перми. Шел спектакль «Кремлевские куранты» Н. Погодина. Известие, прозвучавшее 22 июня 1941 года со сцены театра, было подобно грому. По воспоминаниям артистов, уже через два дня были организованы концертные бригады, выступавшие на перроне Пермского вокзала во время коротких остановок составов с мобилизованными.
На сайте театра значится: «Всего в период 1941—1945 гг. артисты Свердловского драмтеатра создали 7 таких коллективов, давших в общей сложности 1600 концертов во фронтовых условиях, 715 больших программ в воинских частях и госпиталях, 4809 выступлений в палатах госпиталей. В июле — августе 1944 года театр выезжал на большие гастроли в Кисловодск и Минводы для организации досуга находящихся там на излечении солдат и офицеров: здесь всего было сыграно 56 спектаклей, которые посмотрели 31 667 зрителей. И это помимо необходимости работать на стационарной площадке, укрепляя дух и волю к жизни тех, кто отдавал все свои силы изнуряющему труду на эвакуированных в Свердловск заводов запада и центра страны».
Драматурги еще не написали о войне, что чуть позже назовут Великой Отечественной. Поэтому в первые военные месяцы Свердловский драмтеатр, как и сотни других театральных коллективов страны, обращаются к историческому материалу, способному пробудить патриотический настрой даже в самые тяжелые дни тотального отступления советских войск. Вернувшись в Свердловск, труппа сразу же начала репетировать спектакль «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, представив премьеру уже в сентябре 1941 года.
Сотрудники театра вспоминают, что в январе 1942 года свердловчане одними из первых показали «Крылатое племя» А. Первенцева, в центре которого была история дружбы военных летчиков и строителей самолетов. В сезоне 1942−1943 гг. театр возглавил Александр Винер, вошедший в историю коллектива спектаклями «Русские люди» (1942 год) и "Жди меня" (1943 год) по пьесам К.Симонова.
В целом первые два военных сезона оказались для труппы весьма непростыми. Сняв с репертуара казавшиеся неактуальными «крепкие» спектакли классического репертуара, коллектив оказался в ситуации конкуренции с ведущими театрами страны: Московским Художественным (работал в Свердловске во второй половине 1942 г.) и Центральным театром Красной Армии (выступал на сцене Областного дома офицеров с конца 1941 г. до лета 1943 г.). Конечно, в творчестве нет победителей, но вынужденное соревнование разрешилось не в пользу свердловчан, и летом 1943 г. коллектив вновь остался без руководителей. Через три месяца главным режиссером был назначен Ефим Брилль, с приходом которого начался период нового взлета Свердловского драмтеатра. Безусловным успехом театра в годы войны стал спектакль «Дядя Ваня» А. Чехова: его отметили не только зрители, но и критика. И свердловская, и столичная.
И конечно, артисты собирали средства для Победы: 824 тысячи рублей из личных средств было внесено в фонд обороны, еще 90 тысяч рублей — в фонд помощи детям фронтовиков.
Рассказать в рамках одного материала обо всех творческих коллективах невозможно, но на сайтах театров, в СМИ, в исследованиях, в научных статьях есть очень много ценной информации о том, как работали на Победу наши артисты. И их творческий и человеческий подвиг, несомненно, заслуживает уважения.
На сайте театра значится: «Всего в период 1941—1945 гг. артисты Свердловского драмтеатра создали 7 таких коллективов, давших в общей сложности 1600 концертов во фронтовых условиях, 715 больших программ в воинских частях и госпиталях, 4809 выступлений в палатах госпиталей. В июле — августе 1944 года театр выезжал на большие гастроли в Кисловодск и Минводы для организации досуга находящихся там на излечении солдат и офицеров: здесь всего было сыграно 56 спектаклей, которые посмотрели 31 667 зрителей. И это помимо необходимости работать на стационарной площадке, укрепляя дух и волю к жизни тех, кто отдавал все свои силы изнуряющему труду на эвакуированных в Свердловск заводов запада и центра страны».
Драматурги еще не написали о войне, что чуть позже назовут Великой Отечественной. Поэтому в первые военные месяцы Свердловский драмтеатр, как и сотни других театральных коллективов страны, обращаются к историческому материалу, способному пробудить патриотический настрой даже в самые тяжелые дни тотального отступления советских войск. Вернувшись в Свердловск, труппа сразу же начала репетировать спектакль «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, представив премьеру уже в сентябре 1941 года.
Сотрудники театра вспоминают, что в январе 1942 года свердловчане одними из первых показали «Крылатое племя» А. Первенцева, в центре которого была история дружбы военных летчиков и строителей самолетов. В сезоне 1942−1943 гг. театр возглавил Александр Винер, вошедший в историю коллектива спектаклями «Русские люди» (1942 год) и "Жди меня" (1943 год) по пьесам К.Симонова.
В целом первые два военных сезона оказались для труппы весьма непростыми. Сняв с репертуара казавшиеся неактуальными «крепкие» спектакли классического репертуара, коллектив оказался в ситуации конкуренции с ведущими театрами страны: Московским Художественным (работал в Свердловске во второй половине 1942 г.) и Центральным театром Красной Армии (выступал на сцене Областного дома офицеров с конца 1941 г. до лета 1943 г.). Конечно, в творчестве нет победителей, но вынужденное соревнование разрешилось не в пользу свердловчан, и летом 1943 г. коллектив вновь остался без руководителей. Через три месяца главным режиссером был назначен Ефим Брилль, с приходом которого начался период нового взлета Свердловского драмтеатра. Безусловным успехом театра в годы войны стал спектакль «Дядя Ваня» А. Чехова: его отметили не только зрители, но и критика. И свердловская, и столичная.
И конечно, артисты собирали средства для Победы: 824 тысячи рублей из личных средств было внесено в фонд обороны, еще 90 тысяч рублей — в фонд помощи детям фронтовиков.
Рассказать в рамках одного материала обо всех творческих коллективах невозможно, но на сайтах театров, в СМИ, в исследованиях, в научных статьях есть очень много ценной информации о том, как работали на Победу наши артисты. И их творческий и человеческий подвиг, несомненно, заслуживает уважения.
